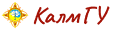Ах, Калмыкия – светлая пора больших свершений!
Так когда-то написал дочери Николай Прокофьевич Красавченко, первый ректор нашего университета. И еще можно привести не одну его цитату о Калмыкии, в которой оказался волею судеб более полувека назад, из воспоминаний его родных, московских учеников и коллег, опубликованных в книге «Николай Красавченко и его университеты» из серии «Звёзды над степью. Калмыкия в событиях и лицах. XX век». К примеру, «какие увлеченные письма он писал мне из Калмыкии, которую от души полюбил! Помню, как во время одного из приездов в Москву поил меня калмыцким чаем», «мои родители полюбили Калмыкию, когда они вернулись в Москву, я старалась дарить им тюльпаны, напоминавшие им о Калмыкии», «рассказывал с каким-то особым пиететом о Калмыцком университете», «чувствовалось, что он относится к своему делу от души. Он хотел создать действительно хороший университет»… И он сумел это сделать! Идея создания университета, вопросы разрешения на его открытие – это бесспорно заслуга Б.Б. Городовикова, а первые годы становления вуза, судя по воспоминаниям калмыцких коллег и учеников, это энергия Николая Прокофьевича. Вновь удивляет умение ценить достоинства других, то, как много успел сделать Герман Манджиевич Борликов, инициатор и один из авторов этой и еще двух серий книг, издаваемых в университете: «Они были первыми» и «Учёные Калмыцкого университета». Задуманы они были, писал Герман Манджиевич, «в знак благодарности заслугам выдающихся людей, которые внесли большой вклад в развитие не только Калмыкии, но и России…, чтобы об их деятельности знали как можно больше людей». «…Давайте еще раз вглядимся в эти лица и пронесем их имена через века…», – предлагал он в предисловии к книге «Они были первыми». Так он словно построил духовный мост между поколениями и установил своеобразный памятник тем, кто шел впереди. Эти книги, делая далекие события близкими, помогают нам представить их героев, понять вклад этих людей и в нашу с вами жизнь тоже.
К примеру, сегодня в университете уже мало людей, знавших Николая Прокофьевича Красавченко лично, поэтому вспомнить о нем в год 55-летия вуза и поможет книга, упомянутая выше.
Читаешь ее и думаешь, какой калейдоскоп встреч, поездок, судеб, событий! По насыщенности жизнь Николая Прокофьевича, по мнению доктора экономических наук В.В. Минаева, одного из его учеников, – «биография эпохи, показанная через ее неординарного представителя…». Судите сами.
Родился он 6 декабря 1916 года в станице Фастовецкая Кубанской области (ныне это Тихорецкий район Краснодарского края) в семье учителя начальной школы. Закончил 8 классов, Тихорецкий педтехникум и началась жизнь, вместившая множество невероятных событий.
Редактор газеты политотдела Фастовецкой МТС, с отличием закончил исторический факультет Московского института истории, философии, литературы. В годы войны руководил Московским горкомом ВЛКСМ, совмещал организацию строительства оборонительных рубежей на подступах к Москве и подготовку партизанских отрядов. Эпизод тех лет, когда вместе с ополченцами, направленными на строительство оборонительных рубежей, попал в плен, из которого Николаю Прокофьевичу удалось бежать, спрятав партбилет в каком-то амбаре, намного позже сыграет роковую роль в его жизни. А тогда с тремя так же бежавшими бойцами прошли по тылам врага, собирая по пути сведения о расположении и состоянии сил противника, пока не попали в подразделение советских войск. Пришлось, конечно, писать объяснительные записки, но тогда в нем не усомнились, выдали новый партбилет, он продолжил работать секретарем МГК ВЛКСМ.
В 1942 году руководил советской студенческой делегацией на международной студенческой Ассамблее в США, был избран вице-президентом Исполкома Международного Союза студентов. Цель поездки – агитация за ускорение открытия второго фронта, создание международных антифашистских организаций. Руководил делегацией советской молодежи на Международной антифашистской конференции в Лондоне, где его избрали вице-председателем Международного Совета антифашистской молодежи. В составе делегации встречался с Ф. Рузвельтом, У. Черчиллем, Ш. де Голлем. Кстати, в результате этих поездок были собраны денежные средства в Фонд помощи России, Красной Армии, «на второй фронт». По воспоминаниям Героя Светского Союза В.Н. Пчелинцева, члена делегации, «львиную заслугу во многих успехах делегации следует приписать Н. Красавченко, отстаивавшему наши позиции во всех звеньях руководства Ассамблеи». Один пример: в день подписания главами делегаций заключительных документов обнаружились искажения в ранее принятых формулировках. Николай Прокофьевич добился возвращения первоначальной редакции текста и только после этого подписал их! А ведь было ему тогда всего лишь 26 лет!
В 1943 г. назначен первым секретарем Московского областного и городского комитетов ВЛКСМ. В 1944 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями «Партизан Отечественной войны I степени», «За оборону Москвы». В 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». До 1949 г. был дважды награжден орденом Ленина, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Мосгорсовета, Мособлсовета.
Но в 1949 г., как мы знаем из истории, в стране началась очередная «классовая борьба» с внутренними врагами, были сфальсифицированы дела – «ленинградское» и «московское», заниматься которыми Сталин поручил Г. Маленкову и Н. Хрущеву. «Ленинградское» обернулось кровавой трагедией: сотни невинных людей были расстреляны, отправлены в лагеря. По «московскому», по нему проходил Николай Прокофьевич, Хрущев устроил разнос, но представил Сталину дело со спасительной формулировкой: «безобразий много, но не враги».
Главным пунктом обвинений Н. Красавченко было «засорение руководящих кадров» нежелательными элементами, иначе говоря, детьми священников, кулаков, теми, у кого родные проживали на оккупированных территориях, евреями. Николай Прокофьевич в объяснительной записке писал, что люди «были взяты на работу, будучи членами партии, куда их сочли возможным принять с учетом их биографических данных», он же учитывал их деловые и человеческие качества. Напомнили Николаю Прокофьевичу и о его нахождении в плену и партбилете. Он был освобожден от должности, исключен из партии, но крах партийной карьеры не сломал его. Как свидетельствуют воспоминания, он «не очерствел душой. Никого не предал. Ни от кого не отрекся. Сберег жену и детей. И смог начать жизнь сначала».
Это даже стало для Николая Прокофьевича, по мнению его сына, благом, т.к. он поступил в аспирантуру МГУ, поменял траекторию жизни, перейдя из круга партноменклатуры в круг ученых. Ко времени окончания аспирантуры был восстановлен в партии, в разные годы преподавал в МГУ, во ВГИКе, МАТИ, защитил кандидатскую диссертацию.
Во всех воспоминаниях о Николае Прокофьевиче отмечается его мудрость, инициативность, чуткость в дружбе, напористость в достижении поставленных целей и неизменно организаторские способности. Возможно, последнее из перечисленных качеств, стало главным в принятии решения о назначении его ректором Калмыцкого государственного университета, создаваемого на базе пединститута (приказ Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от 25.02.1970, № 64/К).
«На второй паре всех собрали перед корпусом института, представили нового ректора. Николай Прокофьевич поздравил нас, отметил большую работу руководства республики и лично Б.Б. Городовикова по открытию университета. Свое выступление он завершил здравицей в честь университета на русском, калмыцком и английском языках. Это привело всех в восторг…», – вспоминал Ю.В. Сусляков, декан факультета математики и физики:
А дальше началась кропотливая работа по становлению вуза. Обратимся вновь к воспоминаниям: «Мы буквально с ног сбивались, получая посылки…мебель, приборы для химиков, физиков, аппаратуру, учебники и мн. др.», «трудно было решить такую проблему, как база практики для биологического факультета. Николай Прокофьевич, используя дружеские связи с ректором кубанского университета, смог «заполучить» Камышанову поляну», «студентов сельхозфакультета для прохождения практических занятий по курсу акушерства и искусственного осеменения возили в Ставрополь», примеров преодоления трудностей периода становления немало. А какой силой убеждения надо было обладать, чтобы для формирования профессорско-преподавательского состава уговорить поехать в степную столицу людей из Москвы, Ленинграда, Томска, Ростова, Белоруссии, Казахстана, Воронежа, все города не перечислить! Конечно, была большая поддержка со стороны руководства республики. К примеру, решение о выделении университету 2-3 квартир при сдаче в эксплуатацию каждого нового многоквартирного дома. Вводились необходимые республике специальности, открывались новые факультеты, создавались кафедры, учебно-лабораторные базы, молодые преподаватели направлялись в аспирантуры, организовывались студенческие научные экспедиции, строились университетский комплекс и благоустроенные общежития. Проводилась работа по переводу студентов, успешно окончивших три курса, в другие вузы, многие из них вернулись преподавать в родной университет.
Надо отметить, что ректор не упускал из виду и вопросы воспитания, досуга студентов. По его инициативе были созданы студенческие стройотряды, участвовавшие в строительстве не только университетского комплекса, но и объектов соцкультбыта республики. Был создан духовой оркестр, куплены аппаратура и инструменты для вокально-инструментального ансамбля, в Москве сшиты национальные костюмы для студенческих коллективов художественной самодеятельности. А как не вспомнить о студенческом туристическом поезде, названном «Юность Калмыкии»! Чтобы дать студентам возможность увидеть красоту Родины, ее разнообразие, Николай Прокофьевич «договорился в Москве, решил вопросы с облсовпрофом о 50% скидке за путевки, выделил средства из ректорского фонда студентам, которым были непосильны и эти 50%», и организовал ежегодные двухнедельные поездки по стране во время зимних каникул. Конечно, легко перечислять сделанное на бумаге, а ведь за всем этим стоит напряженный режим жизни Николая Прокофьевича и его соратников: с каким огромным количеством людей приходилось встречаться, созваниваться, переписываться! Сколько утомляющих поездок! Но уже через три года наш университет по всем показателям вышел на 36-е место из 52 университетов страны!
Приказом Минвуза СССР от 30 декабря 1976 г. Н.П. Красавченко был назначен ректором Московского историко-архивного института. Отметим, в целях «укрепления руководства института». К этому времени Калмыцкий университет стал основным поставщиком кадров не только для республики, но и для соседних Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей и Ставропольского края. В одном из интервью Николай Прокофьевич отмечал: «Не могу удержаться от признания, что эта, почти восьмилетняя работа, в силу сложности, ответственности, важной профессиональной и социальной значимости для развития Калмыкии, стала для меня важнейшим жизненным свершением и доставила мне большое удовлетворение…».
Надо сказать, что и в московском вузе Николай Прокофьевич, судя по воспоминаниям, привнес много нового. К примеру, впервые в стране была создана научно-исследовательская лаборатория по историографии и источниковедению истории СССР, впервые в институте была открыта докторантура, по согласованию с КГБ СССР открыт факультет специального документоведения. Прозорливость Н.П. Красавченко позволила открыть в гуманитарном вузе первый в стране факультет научно-технической информации! В «гонку за информатикой» другие вузы, технические в том числе, включились спустя почти десять лет! Невозможно в одной заметке охватить деятельность такого руководителя, это лишь примеры для того, чтобы удивиться масштабу нашего первого ректора!
Уехав из Калмыкии, Николай Прокофьевич не потерял с ней связи, стал для университета «своим человеком в Москве», всячески помогая студентам, аспирантам, участвуя в защитах докторских диссертаций наших преподавателей, о чем много благодарных свидетельств.
Через 15 лет, в 1992 г., по инициативе ректора Г.М. Борликова, Николай Прокофьевич был приглашен в родной университет на ставку профессора-консультанта, открытую специально для него. Коллеги окружили его заботой и вниманием. Он увидел, как растет и развивается его детище. Через полгода вернулся в Москву. К сожалению, этот приезд оказался прощальным. 26 мая 1993 года Николая Прокофьевича не стало.
В своих воспоминаниях дочь Николая Прокофьевича написала, что «на панихиде в Историко-архивном институте в день похорон отца прозвучал и голос Калмыкии – в телеграмме ее Президента К. Илюмжинова…». «Искренняя признательность Николаю Прокофьевичу навсегда останется в благодарной памяти не одного поколения народов Калмыкии», – говорилось в ней.
Память о Николае Прокофьевиче – развивающийся, идущий вперед университет, и эта книга, изданная к его 90-летию, в которой среди множества благодарных воспоминаний есть какое-то очень бытовое, но, согласитесь, глубокое по смыслу. «На Рижской выбирали с сестрой тонометр. С очень компетентным продавцом обсуждали достоинства марок, производителей. И вдруг выяснилось, что он – выпускник Калмыцкого университета. – А я знала вашего ректора. – Николая Прокофьевича Красавченко? – спросил он, я учился в те годы. Его в Калмыкии помнят и очень уважают. Я дам вам скидку, и дал нам немалую – в четверть цены – скидку», – поделилась Катарина Мурадян, член Союза писателей Москвы, друг семьи Красавченко. Трогательно, не правда ли?
Конечно, труд Николая Прокофьевича был отмечен многими грамотами, медалью «За трудовое отличие», четвертым для него орденом Трудового Красного Знамени, званием «Заслуженный деятель науки Калмыцкой АССР», но именно такая память продлевает жизнь человека, благодарная память народа, в которой он остался, как написал кандидат исторических наук Ю.О. Оглаев «творцом и созидателем, блестяще оправдавшим наши и всей нашей республики надежды и ожидания».
Светлана Богаева, зав. ООМР НБ